
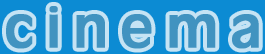
я ищу |
 |
 |
|
|
СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ (АНДРЕЙ РУБЛЕВ)
драма
Продолжительность: 197
СССР 1966
Режиссер: Андрей Тарковский
Продюсер:
Сценарий: Андрон Михалков-Кончаловский, Андрей Тарковский
В ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ролан Быков, Николай Бурляев, Михаил Кононов, Ирма Рауш, Юрий Назаров, Юрий Никулин
Музыка: Вячеслав Овчинников
Оператор: Вадим Юсов13.01.2004
В качестве своего рода пролога и отчасти эпиграфа, прежде чем познакомить читателя со своими размышлениями, приведу цитату из книги знаменитого киноведа Клода Бейли, на мой взгляд, формально очень точно, но, вполне в традициях восприятия русской культуры европейской мыслью, содержательно несколько однобоко, точнее поверхностно характеризующего одно из вершинных созданий Андрея Тарковского.
"В социалистическом мире возник величайший религиозный режиссер нашего времени. Жива еще Святая Русь!
Сюжет.
Пролог: Крестьянин жертвует своей жизнью, пытаясь осуществить древнюю мечту Икара - взлететь в небо...
Россия в начале XV века. Иконописец Андрей Рублев получает заказ на роспись стен Благовещенского собора московского Кремля. Он работает под началом Феофана Грека, которого мучат неотвязные мысли о жестокости мира, которую он приписывает Господнему гневу, в то время как его ученик верит в силу свободной воли. Признанный еретиком, Рублев принимает обет молчания и исполняет его до того дня, когда юный колокольный мастер Бориска убеждает его в том, что вера в человека не напрасна.
Эпилог (в цвете): восхищение художником и его знаменитой "Троицей".
"Андрей Рублев" - носитель духовного взлета и мечтаний художника, которые на много световых лет отдалены от "социалистического реализма" <...>
Андрей Тарковский... уже был знаком зрителю по фильму "Иваново детство" (1962) - волнующему рассказу о судьбе юной жертвы фашистского варварства, фильму, который сравнивали с фильмом Трюффо "Четыреста ударов". Но Тарковский ближе к Брессону, чем к Трюффо, по своему стремлению к недоговоренности, и к Дрейеру, по своей высокой духовности. В своем искусстве он стремится разоблачить обманную сущность материального прогресса и, соответственно, вознести достоинство духовной жизни, отказа от земных благ, самопожертвования. И становится понятно, почему он привел в пример жизнь художника-иконописца, ищущего высшую истину и отвергающего ее жалкое земное подобие.
Фильм "Андрей Рублев" как бы делится на главы, подобные алтарным створкам. Эпическая ярость чередуется в нем с элегическими видениями, мистическая погруженность в молитву - с языческим празднеством. Можно без преувеличения назвать это современным богоявлением - если не в священном, то в мирском значении этого слова" (К. Бейли. Кино: фильмы, ставшие событиями: Компакт-энциклопедия. СПб., 1998. С. 324 - 325).
Всё главное сказано. И не сказано почти ничего. Фильм понят правильно - и как бы не понят вовсе.
Что делал Андрей Арсеньевич Тарковский? Снимал исторический фильм о... самом себе, о русском художнике. Далее попробую объясниться, не претендуя ни на возможность окончательных выводов и суждений, ни - тем более - на почти афористическую лаконичность К. Бейли (приведенный текст - практически вся статья об "Андрее Рублеве"), да и можно ли, в самом деле, раз навсегда прочитать классический текст? Нет, конечно!
Сделать исторический фильм (а что бы там ни говорил сам режиссер и многочисленные критики вслед, "Страсти по Андрею" - именно исторический эпос, с той разницей, что это прежде всего эпос духа, эпос созидания вопреки миру насилия, а не привычная глазу цепь атлетических поединков) о великом художнике, из жизни которого нам известны разве два-три более-менее достоверных факта, - невозможно. Для всякого рода зрелищного искусства это аксиоматично. Чтобы все же решиться на такое безумие - снять фильм об Андрее Рублеве - надо быть Тарковским. Я не знаю, какова доля соучастия Андрона Кончаловского в создании этого шедевра, этого во всех смыслах исключительного текста (недаром фильм входит - по разным оценкам - в десятку или в сотню лучших лент мирового кино). На уровне сценария, вероятно, велика и вполне соразмерна доле Тарковского. Недаром в последней своей работе, в "Доме дураков", Кончаловский буквально цитирует один из мотивов "Страстей по Андрею" - мотив блаженной, символизирующей у Тарковского, быть может, и простонародную совесть, и главного зрителя художника, и необходимость, и невозможность для художника искренной, простой человеческой любви (каюсь перед читателем, не вспомнил, упустил эту нагляднейшую аллюзию в своей рецензии на "Дом дураков" - вот вам и подтверждение тому, что классику надобно пересматривать, перечитывать постоянно, она - чем бы мы ни увлекались, о чем бы ни говорили - питает все наше настоящее). А дальше, надо думать, Андрей Арсеньевич работал один. Потому что, как и все его картины, "Страсти по Андрею" - это страсти (в значении - страдания) по самому себе, по созидателю и человеку, по мучающейся и мучающей своих детей нашей родине, по вечной душе художника - смертного человека, обреченной от рождения до перехода в бессмертие пребывать "у времени в плену" (Б. Пастернак). Это, в сущности, одна из главных, если не главная, тема Тарковского, довлеющая над всем разнообразием сюжетов и мотивов великого кинематографиста.
Кто он, русский художник? "И я бы мог, как шут..." - начал и оборвал строку Пушкин в тетради 1826 г., недосказанное дорисовав несколькими штрихами пера: перекладина и пятеро повешенных. Шут, скоморох, потешник, массовик-затейник, до седин мальчик для битья... Философ, мыслью и делом стремящийся в небеса, дерзающий отобразить на покрытой лаком доске Лик Божий... Со-Творец?.. И да, потому что создает собственное художественное пространство, и нет, потому что для православного гордыня воистину главный смертный грех, и все-таки да, ибо стремление к абсолютному в созидании прекрасного - для художника необходимость. Созидая же воистину прекрасное, художник созидает и самого себя. Это его тяжкий путь к познанию, его страсти.
И когда бы ни жил настоящий художник, живет он страстно и уже потому мучительно. Путь всякого художника - дорога в небо, значит - из варварства (в том числе, а может быть, прежде всего - собственного) к Истине. Что еще мы знаем о художнике? Да нужно ли еще что-нибудь знать?
А XV век - что мы о нем знаем? Что он - время дикости или, по Д.С. Лихачеву, век Просвещения? И о чем, собственно, хотя бы на уровне видеоряда, фильм Тарковского - о веке или о человеке, плененном временем?
На уровне видеоряда, я думаю, фильм "Страсти по Андрею" - действительно, многостворчатая икона, пишущаяся на наших глазах. Вот одна створка - пролог - бежит мужик в драном зипуне от разъяренных сограждан. Чего бежит-то? А, того, придумал он себе крылья, то бишь воздушный шар, и торопится взлететь. - Куды-ы? - кричат сожители, - вот мы тебе ужо! Ишь, ангел нашелся!.. "Рожденный ползать..." Он взлетел, в ужасе и восторге прокричал соплеменникам: "Летю-ю!.." - и разбился. В этом вот загнанном, воснесшемся, удивленном, восхищенном, предсмертном "Летю-ю!.." и суть, и смысл эпизода. Какой там Икар!..
Вот другая створка - последняя и центральная - черно-белый фильм взрывается красками икон Рублева, и никакой публицистики, никаких привычных аргументированных, разжевывающих все и вся бестолковому зрителю (имеющий глаза - да увидит!) выводов уже не надо - ЭТОТ мужик, ХУДОЖНИК, земное тяготение преодолел.
Кстати сказать, прием неожиданного, контрастного завершения черно-белого фильма цветным эпизодом Тарковский не придумал. Он повторил - и тем самым как бы поклонился памяти великого предшественника - гениальную находку Эйзенштейна, за сорок лет до "Рублева" взметнувшего над броненосцем "Потемкин" красный флаг, покадрово раскрасив знамя от руки.)
Все, что между этих створок - картин гибели ВО ИМЯ и вознесения, друг друга отрицающих и дополняющих - страдания земные, страсти по родине, человеку, художнику, дорожная история (иди и смотри, имеющий глаза художник!), если угодно, правдивая философская фэнтези, даже вывернутая наизнанку пикареска. Без героя-плута, без тени иронии, трагедия отчаяния и гимн восхищения: "...подобно "Сладкой жизни" Феллини, фильм состоит из ряда новелл, сквозь которые, любопытствуя, радуясь, ужасаясь, страдая, прорываясь к творчеству, проходит Андрей Рублев, художник и чернец" (М. Туровская. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991. С. 53).
Вот створка-главка "Скоморох", где гениальный Ролан Быков - не то бес, не то охальник-домовой, не то профессиональный шут, выпнутый из хорОм господином, не то и впрямь революционер духа - "расковывает сознание" пьяных мужиков матерными частушками и заголяет разрисованный рожами зад перед хихикающими девками - "...таков твой итог, досточтимый художник" (А. Вознесенский, "Мой Микеланджело"). (Нет, итог не таков, это еще не итог, не итог даже и то, что последует пять минут спустя - наедут конные княжеские стражники, возьмут охальника под белы рученьки и, беззлобно так вышибая дух, трахнут лысой башкой о дерево. Итог будет под самый конец фильма, когда обеззубевший, спившийся, озлобленный шут вспомнит в Рублеве калику перехожего, бывшего невольным свидетелем насилия над ним, и бросится на него с топором - это ты меня предал! - и не поверит, что не предавал он его - человек человека, художник художника - и простит.) Какой-никакой, а праздник, тоже ведь, в сущности, полет в небеса, пусть и телесные... И вновь - куды-ы? Ужо тебе!..
Вот главка-створка так и называющаяся - "Праздник", в которой странствующий чернец и художник оказывается свидетелем иного телесного, языческого праздника - и то сказать, на дворе-то начало XV века, жива еще, хоть и беззаконна память о дохристианском прошлом - ночи накуне Ивана Купала. Здесь он сам подвергается насилию. Обнаружив незваного гостя, торопящиеся исполнить обряд символического зачатия, именуемого христианской церковью бесовщиной и свальным грехом, голые мужики привязывают художника к столбу: гляди, мол, и мотри, коли сам не можешь. Андрей и смотрит - жадно, душой страдая, а взором восхищаясь - как иначе? Смотрит, пока сам не подвергается искушению. Бесом плоти, как иные святые великомученики; но не меньше того - красотою живого, женского тела. Он - чернец - тверд в своих табу. А он - художник?.. И вновь праздник обрывается наездом конных стражников, жестокость века - жизни во имя божье - насилует естественную красоту, Богом же данную человеку.
Насилие над душой, умерщвление плоти окружает художника со всех сторон, преследует его, больше того - опутывает его самого. И к плоти, и к душе, и к красоте, и - главное - к духу надо пробиваться через собственную и всечеловеческую немоту, через нечленораздельные вопли боли и страдания, через избиения, через чудовищные, дантовские картины (символом которых - грязь, размазываемая немотствующим Андреем по тщательно выбеленной подмастерьями и приготовленной к росписи стене новой церкви - вот вам лепота: "Это вы сделали?" - "Нет, это сделали вы!"), через ад на родной земле, где (все те же?) конные стражники настигают выполнивших урок зодчих, построивших князю храм да поспешающих теперь к другому заказчику, и выкалывают мастерам глаза. "И тогда государь повелел ослепить этих зодчих..." (Д. Кедрин) - дабы не было ни у кого такой красоты. И что ж с того, что единственная эта красота наутро погибнет, и в храм въедут конные татары?..
Князь на князя, брат на брата, мир на летуна, художник на художника (Кирилл на Андрея, Андрей - на Даниила - трое, не Троица, но была ли б иначе возможна "Троица"?), век на человека - с дубьём.
"Умом Россию не понять". Вот именно. Но чтобы в нее поверить, надо родину-мать и родину-мачеху хотя бы увидеть. Иди и смотри, художник! И ты замкнешь уста, и убьешь в себе страсти, ибо страдания человека и земли русской превышают все мыслимые пределы. Но и замкнув уста, ты останешься, нет - станешь, только тогда и станешь художником, способным преодолеть тяготение. И оставить по себе неуничтожимое временем - дело и память. "Иди один..."; "Ты - царь, живи один..."
Но ведь ты не только художник, ты - человек, тебе нужны учителя и друзья, тебе необходимы и малые мира сего - женщины и дети, о которых ты мог бы заботиться. Но прежде всего ты - художник. И значит, пройдя искушения учителями, друзьями, женщинами и детьми, ты в конце концов все-таки остаешься один. Так ли?
Нет, не так! Художник творит с Богом, но не для Бога, а для людей, вот этих самых - учителей, друзей, женщин, детей, даже для односельчан с дубьём. И пока не поймет того - "Троицу" (соборность!) не напишет. Пусть на каком-то этапе он действительно творит для себя, как бурляевский Бориска, чтобы выжить, чтобы состояться, чтобы доказать. Но память о Бориске - не избирательна, а собирательна - сколько их, таких Борисок, на Руси было, есть и будет еще? Бориска - прообраз (отражение) Андрея (Рублева и Тарковского), так сказать, лишь стоящего на пороге, прообраз, порождающий будущего художника и уже в нем, настоящем, умершего (всмотритесь в иллюстрирующий эту мысль кадр, где держит Рублев рыдающего Бориску на коленях, ничего он вам не напоминает? а картину Репина "Иван Грозный убивает своего сына"?). Потому и встречает его-себя-Бориску замкнувший уста художник в конце пути (и фильма) - пути житейского, но не творческого, в преддверии постижения истины. Чтобы обрести голос и желание говорить, надобно встретиться с самим собой - и проверить, и понять, насколько ты умер - ушел от того, кем был когда-то, насколько ты воскрес - продвинулся к самому себе и к Богу.
"Страсти по Андрею", пожалуй, один из самых "говорящих" фильмов Тарковского. Долгие, протяженные эпизоды молчания, где говорят лишь взгляды и видимые глазами Рублева, то щемящие, то прекрасные и неизбывно печальные, брейгелевские картины земного бытия, чередуются с долгими же и протяженными, намеренно статичными, как в фильмах Куросавы, эпизодами творческих, богословских и философских бесед Андрея с живым и мертвым Феофаном Греком, Даниилом Черным, Кириллом. Но как поданы эти разговоры, в какой цельности, в каком единстве с "картинкой", с общим замыслом: не говоря, не скажешь, но прежде чем сказать, надо научиться говорить, а чтобы научиться говорить, надо научиться видеть, видеть же нельзя, если не смотреть...
Они и говорят как бы из глаз, как бы из прозрения, сменяющего слепоту, герои "Страстей...", актеры, созданные или из той же почти немоты бытия проявленные Тарковским в бессмертие: Андрей - отныне главный со-творец режиссера, воплощающий наиболее сложные его замыслы, Анатолий Солоницын (они и ушли из жизни друг за другом, художник и модель, нет, автор и исполнитель); Даниил - другой мастер, появившийся уже в "Ивановом детстве" и, видимо, наиболее адекватно для режиссера воплощавший в дальнейшем образ доброго и мудрого, всепрощающего отца мятущихся героев, - Николай Гринько; Феофан - единственный раз появившийся у Тарковского, но воссоздавший образ учителя художника, его предшественника и alter еgo так, что иным Грека представить уже невозможно, Николай Сергеев; подмастерье - также единожды появившийся у Тарковского Михаил Кононов, воплощающий тоже отражение Рублева, но - в кривом зеркале и, скорее всего, являющийся alter ego Кирилла; Бориска - возмужавший и в "Рублеве", вероятно, достигший своего творческого пика, предела Николай Бурляев... Наконец, немая блаженная, дурочка - уж точно зеркало эпохи, да что эпохи - русской жизни - Ирма Рауш-Тарковская, за эту роль удостоенная награды МКФ.
Всё и вся в этом фильме отражается друг в друге: люди, вода и лес, земля и небо, храм и дорога, реальность и искусство. Сам фильм - зеркало, хоть и не назван так. А не назван так - потому, думаю, что и без того слишком очевидны его политические аллюзии. И потому что название это Андрей Арсеньевич приберегал для другого, более интимного фильма.
Судьба же "Страстей по Андрею" - зеркальна (истинный художник - всегда пророк) судьбе автора, предсказывает его будущее. Нелегкая судьба и великая судьба. Фильм долго не выпускали на экраны, в нем - что чиновники! - собратья по ремеслу и философы-почвенники не могли не увидеть и увидели пасквиль на Россию. Однако прошло почти четыре десятилетия. Убыло от России, от нас с вами? Прибыло! Ибо Тарковский - прежде всего "Страстями по Андрею" - заново научил немотствующую (пустое славословие тех времен, выдававшееся за патриотизм, да и сейчас еще выдаваемое - и есть немота, упокоение духа, того же уровня, что рекламные ролики да всех мастей одуряющие наркотики аншлагов) Россию говорить. А для тех, кто этой его художественной, гражданской, истинно патриотической цели, выраженной в "Рублеве" символически, не понял, - не успокоился, не побоялся и повторил прямо публицистически - в прологе к "Зеркалу".
Дополнение
Вскоре после написания и публикации этого эссе, в Сети (www.lib.ru) появилась давняя, 1983 года, критическая статья А.И. Солженицына, воспринявшего фильм А. Тарковского резко отрицательно. Согласно доводам великого писателя, авторы фильма, работая исключительно для "своих" и, так сказать, держа фигу в кармане, в целях фрондерства и самолюбования используют "бродячие" европейские сюжеты, невозможные в истории России и нигде не зафиксированные в летописях, выдумывают нелепые анекдоты, вместо просветленных богомазов предлагают зрителю образы издерганных интеллигентов, тем самым извращая историю России и рисуя глубоко ложный, в реальности совершенно невозможный и - для всякого православного христианина - бесовской образ Рублева.
Аргументация Александра Исаевича, безусловно, убедительна и была бы, может, вовсе убийственна, если бы речь не шла о картине, просветлившей мутные небеса эпохи для целого поколения, заставившей это поколение думать и чувствовать, искать истину, а то и уверовать, наконец, в какой-то степени заменившей названному поколению книги самого Солженицына, о каковых, особенно в провинции, мы только слышали, причем КАК ИМЕННО слышали - писателю без сомнения известно лучше, чем кому бы то ни было.
Помимо того - и мы, будучи совсем молодыми людьми, может, не понимали, но чувствовали это даже в те времена - "Страсти по Андрею" - картина не о Рублеве и не о России XV века, но, конечно же, о самом Тарковском, о судьбе русского художника, да и вообще Художника, алкающего истины и стремящегося к небесам, а, стало быть, неизбежно вынужденного пройти круги дантового ада. Ныне же то, что ранее чувствовалось, стало очевидным. Особенно в ретроспективе великих трудов и недолгих дней режиссера.
Рецензия: Виктор Распопин
