
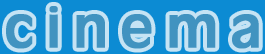
я ищу |
 |
 |
|
|
СОЛЯРИС
фантастическая драма
Продолжительность: 160
СССР 1972
Режиссер: Андрей Тарковский
Продюсер:
Сценарий: Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковский (по роману Станислава Лема)
В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Николай Гринько, Юри Ярвет, Анатолий Солоницын, Владислав Дворжецкий и др.
Музыка: Иоганн Себастьян Бах, Эдуард Артемьев
Оператор: Вадим Юсов23.12.2003
Сейчас уже трудно решить, кто кому отвечал в художественно-публицистической полемике конца 50-х - начала 60-х: Станислав Лем Ивану Ефремову, или, наоборот, "Туманность Андромеды" последнего полемизировала с "Солярис" (именно так, в женском роде, следует произносить название романа польского фантаста, а, стало быть, и названия его экранизаций). Скорее всего, думаю, Лем, просчитавший будущее рода человеческого в философском, трагиироническом ключе. Ефремов, при всем титаническом размахе его личности - ученого, писателя, пророка, - предлагал версию соцреалистического конфликта, то есть проблематику глубоко верующего человека (а какая разница, во что верить - в Бога или в светлое коммунистическое будущее народов Земли?), для которого основной конфликт бытия - это борьба лучшего с хорошим. Герои Ефремова (исключая персонажей позднего и художественно, сдается, не слишком удачного романа "Час Быка") - уже, собственно, и не совсем люди в нашем понимании, а галактическое (точнее - вселенское) коммунистическое будущее, при всем обаянии ефремовской, вполне логичной, но поистине безудержной фантазии, - уж даже и не фантастика, а прекрасная сказка про молочные реки и кисельные берега. Поэма, словом, или гимн - кому как понравится.
"Солярис" в этом плане вещь куда более трезвая, прозаичная и трагичная. Действие романа происходит тоже в достаточно отдаленном будущем, имеющем некие непрописанные, но подталкивающие читателя к догадке о том, что мы находимся в утопии, черты. И прежде всего это ясно из интернацонального состава как орбитальной станции "Солярис", так и истории соляристики. Последняя, кстати, занимает по объему не менее трети романа, в целом-то посвященного скорее глубоко драматической проблеме контакта человеческого племени с не подобным себе разумом, нежели - как у Ефремова - доказательству, простите, бытия Божия в антропоморфных формах.
Возможность контакта - одна из центральных тем творчества Лема. А лучше бы сказать - невозможность. В "Солярис" явлена не возможность и не невозможность, скорее промежуточное состояние. "Солярис" - уже не героическая симфония по типу "Магелланова облака" и еще не траурный марш "Гласа Господня" по безумной мечте всех на свете утопистов, от Сирано де Бержерака до Эриха фон Дэникена. Поэтому роман о спровоцированных чуждым (то ли ничего в нас не понимающим, то ли, напротив, понимающим даже то, чего мы сами в себе не понимаем) разумом нравственных пытках человечества, не ушедшего в области морали так далеко от современного землянина, как далеки от нас ефремовские люди-ангелы, и заканчивается, в общем, на оптимистической ноте. В отличие от фильма.
Ведь зачем герой лемовского романа Крис Кельвин прилетает на Солярис? Какова его основная цель? В последний раз проверить научную и экономическую целесообразность существования исследовательской станции. И, коли таковой не обнаружится, - станцию, а вместе с ней и оплачиваемые человечеством, давным-давно ведущиеся, но сколько-нибудь удовлетворительного результата не приносящие исследования закрыть вообще. Тем более, что на станции в последнее перед прилетом Кельвина время стало происходить - с людьми! - нечто из ряда вон.
Дальнейшее можно читать по-разному. Одна версия - мыслящий Океан, извлекая из памяти соляристов или из их подсознания тщательно забытые нравственные преступления и порождая по лекалам препарированной человеческой памяти монстров, отвечает (быть может столь же бессознательно, как бессознательно действуют люди при изучении чуждого разума) исследователям такими же пытками, каким они сами, ни черта не знающие об Океане (Боге?), подвергают его, например, посредством жесткого рентгеновского облучения. Другая - Океан (Бог?) сознательно порождает чудовищ, извлекая их из спящего разума астронавтов. Третья - переживая чудовищные нравственные пытки, исследователи солярийского Океана, исследуют самих себя и приходят к единственно возможному и единственно необходимому для человека решению: "врачу исцелися сам", то есть изучай себя, контактируй прежде всего с собой и с себе подобными. Или - если угодно - обратись, человек, к книге Иова: там все сказано ("Где ты был, когда Я...").
Каждый из несчастных ученых встречается в замкнутом, захламленном помещении станции с собственными чудовищами, как бы вынужден вглядеться в себя, как в зеркало. Наиболее легкая (и в то же время нравственно наиболее тяжкая) участь достается Кельвину. Если прочим обитателям станции Океан-Бог предлагает разбираться, по-видимому, с теми, кого они в прежней жизни ненавидели и уничтожили, то главному герою предоставлена возможность встретиться с той, кого он любил (разлюбил и/или, не поняв до конца, невольно подтолкнул к самоубийству). Кельвину предоставлена возможность, так сказать, долюбить (до-ненавидеть, понять - ее и себя). Долюбить и доненавидеть, действительно, можно. Еще раз убить - нет. То есть, можно, конечно, десятками и сотнями всевозможных способов - но назавтра уничтоженный монстр возвратиться к тебе в первозданном виде, ничего не зная ни о первой своей смерти - там, на Земле, ни о последующих - уже здесь, на Солярис. Возвратится, как робот, с единственной целью - любить, быть рядом, служить, не отлучаться ни на секунду.
Вовлеченные в этот контакт-эксперимент исследователи, по-видимому, встретились действительно с монстрами: детьми-олигофренами, бывшими любовницами-дикарками с каких-нибудь и в коммунистическом будущем недоразвитых островов. Кельвину же Океан возвращает жену, женщину, любившую его больше жизни. В итоге оба героя - человек и нейтринное порождение планеты-мозга, быть может, детского, быть может, наоборот, престарелого, быть может, всезнающего и всесильного - вочеловечиваются. Инспектор вынужден не то что раскаяться - по-настоящему казниться несовершённым когда-то (и все-таки совершённым) преступлением, понять себя, понять и простить окружающих, более того - понять и простить Бога (Океан); его бывшая жена Хари, напротив, вынуждена возненавидеть себя, нынешнюю, повторить попытку самоубийства, наконец, с помощью находящихся на станции к моменту прилета Кельвина исследователей, уйти окончательно - чтобы прекратить собственные мучения и мучения Кельвина, и жестокий (но взаправду ли осмысленный?) эксперимент Океана, и - тем самым - заставить человечество, изменившись, продолжить попытки диалога с неантропоморфным (божественным?) разумом.
Теперь можно обратиться к фильму, к тому, что сделал великий режиссер Андрей Тарковский с лучшим романом великого фантаста Лема. На внешнем уровне, на уровне буквы, в фильме мало что изменено. Разумеется, исключена история соляристики - этакая миниэнциклопедия, написанная Лемом (уже тогда!) в постмодернистском ключе комментариев и ссылок к вымышленным книгам вымышленных авторов (поздний Лем создаст в этом жанре немало блистательных произведений). Из всей соляристики сохранен только один персонаж - пилот Бёртон (роль исполняет Владислав Дворжецкий), впервые встретившийся с видимым проявлением разумных действий Океана. Бёртон явлен как первый пострадавший, как человек, разбуженный и навсегда погруженный Океаном внутрь самого себя, десятилетиями испытывающий нравственные страдания. К тому же Бёртон явлен и как страдалец, впервые (в фильме) столкнувшийся с истинным обликом будущего человечества в лице комиссии, представляющей академический и общественный институт, занимающийся проблемой соляристики. По Тарковскому, люди будущего (да и будущего ли?) в общественной деятельности представляют собой носителей привычного нам набора эгоистических качеств. Конферируя, они озабочены собственной внешностью, красным словцом и прочими столь знакомыми вещами. Никто не понимает, не желает понять, не верит, в упор не замечает страданий человека, в отличие от этих теоретиков, что-то видевшего своими глазами. (Если будете пересматривать картину, обратите внимание на крохотный эпизод с участием знаменитого писателя Юлиана Семенова, изобразившего на экране такого вот только самим собой озабоченного деятеля от науки.)
Вместо же соляристики Тарковский предлагает обрамляющую (и, по существу, резко меняющую содержание текста) рамку - пролог, в котором показано прошлое Кельвина, его родительский дом, отец и тетка, собирающие героя в путь, навсегда уводящий его от них, ведь покуда Кельвин будет осуществлять свою миссию, здесь, на Земле, пройдут, может быть, века; и эпилог - физическое псевдовозвращение блудного сына (о чем подробнее скажу ниже), а в нравственном, притчеобразном смысле - подлинное возвращение героя - домой, как к самому себе.
Все это - явные, на уровне драматургии, перемены. Есть и множество мелких, не слишком заметных глазу. Казалось бы, и не педалируя, Тарковский и Горенштейн переменяют тем не менее смысловые акценты, несколько увеличивая долю участия в действии Хари, что в конечном, содержательном счете приводит к тому, что эта "игрушка" Океана становится едва ли не главной героиней картины (Хари - кажется, первая и уж точно главная роль в артистической карьере Натальи Бондарчук, одинаково замечательно, даже потрясающе сыгравшей не только умирания-возрождения своей героини, но именно ее вочеловечение), или передавая слова, произнесенные в романе другими персонажами, Снауту (Юри Ярвет, как и Донатас Банионис, словно бы и не играет вообще, и уж тем более не играет в научную фантастику - живет, точнее выживает, сильный слабый, плохой хороший человек в нечеловеческих условиях, в немалой степени им же самим и спровоцированных), или вкладывая в уста Сарториуса (Анатолий Солоницын мог сыграть всё, здесь же - превратил, по сути, эпизодическую роль в такую же главную, как роли Баниониса и Ярвета, - его появления на экране ждешь и боишься, от него, человека жесткого, если не жестокого, отторгаешься и в то же время прозреваешь, что именно он решит судьбу станции) то, чего он, человек немногословный, но деятельный, не говорил у Лема, или... В общем, как бы нюансы. Нюансы, из которых, однако, складывается текст, написанный вовсе не Станиславом Лемом. Текст, принадлежащий Андрею Тарковскому, и больше никому. (Я не говорю о замечательном писателе Фридрихе Горенштейне - вероятно, его доля в создании сценария велика, однако в авторском искусстве Тарковского, по большому счету, есть прежде всего и, пожалуй, только он сам, Андрей Тарковский - демиург.)
И рассказывает этот текст меньше всего о планете Солярис, меньше всего о будущем человечества или проблеме контакта будущего человечества с непостижимым для людей воплощением иного разума. Он, текст Тарковского, как всегда, о самом Тарковском, как бы вселившемся в Криса Кельвина - Донатаса Баниониса, немножко (и безусловно режиссерски намеренно) излишне для человека грядущего, тем более для астронавта, плотноватого, неуклюжего, неловкого даже. Он, текст Тарковского, о родном доме, от которого ведь и в наше время, и всегда человек вынужден с кровью (если не своей, то уж тех, кто остается, - точно) отрываться, о невольном, необходимом и совершенно естественном, житейски оправданном предательстве, совершаемом каждым из нас, когда мы вырастаем и покидаем отчий дом. Он еще и о другом, тоже практически неизбежном, нежеланном и в какой-то мере невольном преступлении каждого человека - о смертоубийстве любви ("Но каждый, кто на свете жил, / Любимых убивал". - О. Уайльд). Да, собственно ведь, уже не говоря о том, что каждый из нас в жизни "убивал любимых", в самом уходе человека из отчего дома и происходит это первое убийство любимых.
Но в отчий дом человек, блудный сын может (и должен) вернуться - по крайней мере Библия тому учит. В ЭТУ воду можно (и должно) войти дважды. А в дом, построенный и разрушенный тобой самим, - нет. Поэтому и Кельвин полюбил на станции уже ДРУГУЮ Хари, поэтому и та, ДРУГАЯ, Хари своим решительным, последним, окончательным уходом убивает фантасмагорическое, на грани сумасшествия, желание Кельвина построить с ней новый дом - на станции, ибо порождение чудовищного эксперимента Океана может существовать только на Солярис.
Одновременно же поступок Хари порождает другое чудовище океанического разума - явление герою отчего дома, здесь же, на станции "Солярис". И нам, и Кельвину поначалу лишь кажется, что он, блудный сын, возвращается к дождавшемуся его, ничуть не постаревшему отцу (Николай Гринько, играя порывистого, нервного, НАВСЕГДА ПРОЩАЮЩЕГОСЯ С СЫНОМ человека, не исполняет роль - живет, живет как бы и обыденно и отчасти даже суетно, но и - трагически высоко, ведь он уже исчезает из реального мира, переходит в память сына...), но постепенно, как бы глядя на проявляющуюся фотографию, и Кельвин, и мы понимаем - это новый дар (или новое наказание) Океана: герой приближается к родному дому по той же тропинке вдоль реки, пролегающей между тех же разлапистых деревьев нашего детства к дому, вглядывается в закрытое окно и видит внутри комнаты своего отца, мокнущего под дождем. И дождь идет именно в доме, а на дворе ласково светит предвечернее осеннее солнце...
Что он знает о нас, мыслящий Океан?
Или: Бог знает о нас все - ведь нелепый этот дождь внутри дома не помешает давно умершему отцу увидеть за окном все утратившего, но обретшего самого себя сына и выйти ему навстречу, чтобы он, звездный скиталец, чтобы он, человек, доросший до самого себя, чтобы он, блудный сын, мог грузно опуститься на колени и припасть к ногам отца своего, как персонаж рембрандтовского полотна.
А знаете, что сначала собирался сделать Андрей Тарковский с романом Станислава Лема? Прежде всего, видимо, он хотел оспорить конструкцию технически совершенного, но обездушенного будущего, предъявленную в нашумевшем и действительно талантливом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". А далее... Вот как пишет об этом М.И. Туровская в своей книге "7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского" (М.: Искусство, 1991. С. 80):
"В самом первом варианте сюжет претерпел довольно существенную деформацию. Появился новый и важный персонаж - Мария, жена Криса. Встреча с Хари на станции привела Криса к самопознанию и самоочищению: постепенно он делал ее человеком, повторяя земной цикл. В конце он возвращался на Землю к Марии прощенным и искупленным.
Возможно, Тарковский и сам отказался бы от этого мотива: избыточность сюжета оставляла слишком мало пространства для сути. Но автор (Лем. - В.Р.) вмешался прежде, чем он успел об этом подумать.
Он писал в письме к режиссеру, что сценарий "подменил трагический конфликт прогресса неким видом биологического, циклического начала... и свел вопрос познавательных и этических противоречий к мелодраматизму семейных ссор".
Режиссер не стал упираться".
Как бы то ни было с дальнейшими вариантами сценария, но из приведенной цитаты, в общем, понятно, что Тарковского, по-видимому, более всего интересовала линия бывшего-настоящего-будущего в отношениях Кельвина и Хари. (И, конечно, вечная, продленная в эксперимент будущего притча о блудном сыне, но о ней я уже сказал.) То есть, можно полагать, он хотел значительное место в картине уделить психологической предыстории героев. (Не могу смолчать: Тарковский только собирался, а Стивен Содерберг в новейшей экранизации "Солярис", точнее в голливудском ремейке ленты Тарковского, осуществил этот его в конечном счете отвергнутый вариант, а правильнее сказать - пытался осуществить, но в итоге заставил зрителей откровенно скучать, битых полчаса наблюдая постельные сцены красавчика Клуни с невыразительной партнершей, производимые именно на Земле, в меблированной комнате нью-йоркского небоскреба, под шум непрекращающегося дождя. Впрочем, постельных сцен, ничем, кроме отсутствия дождя, от земных не отличающихся, у Содерберга хватает и на станции. Во всем остальном этот заунывный, какой-то, я бы сказал, непрофессиональный, лишенный не то что психологического, но даже просто любовного и социального конфликта, а одновременно до смешного политкорректный в духе Молчалина ("...собаке дворника, чтоб ласковой была") фильм представляется скорее не ремейком, а этаким библиотечным прочтением работы предшественника (о романе и не говорю - уж читал ли вообще-то Содерберг Лема?), то есть прочтением по диагонали, ухватывающим, быть может, смысл и сюжет, но никак не содержание читаемого.)
Что можно сказать в результате? Быть может, это и странно, но теперь, спустя более сорока лет после выхода книги и через три десятилетия после ее экранизации, даже перечитывая непосредственно текст Лема, даже намеренно стараясь при этом абстрагироваться от воспоминаний о фильме, я воспринимаю лемовские ситуации, лемовских героев, даже саму ауру книги именно через картину Андрея Тарковского. "Солярис" для меня - не предостерегающий, тревожный сон о будущем, а ранящая, но и утишающая боль, подобная светлой и неизбывной элегической печали давно не петой, но и незабвенной маминой колыбельной, память о вечном.
Не знаю, удалось ли мне хотя отчасти проанализировать картину, ведь не то что исчерпывающе, а хоть сколько-нибудь полно о работах Андрея Арсеньевича, наверное, вообще рассказать невозможно, тем более в рамках статьи, - каждая из его картин требует как минимум целой книги рассуждений. Таков основной закон классики - ее неисчерпаемость. Во всяком случае, сейчас мне кажется, я сказал все, что думал. Сегодня. На этом этапе моего собственного взросления. Что буду думать завтра, после очередного обращения к Тарковскому, о том не ведаю. Поживем - увидим. Здесь же - вместо заключения - приведу еще одну цитату из книги М. Туровский. Вот что говорил о работе над "Солярис" сам режиссер:
"Почему-то во всех научно-фантастических фильмах, которые мне приходилось видеть, авторы заставляют зрителя рассматривать детали материальной структуры будущего. Более того, иногда они (как С. Кубрик) называют свои фильмы предвидениями... Мне бы хотелось так снять "Солярис", чтобы у зрителей не возникало ощущения экзотики. Конечно, экзотики технической...
Я замечал по себе, что если внешний, эмоциональный строй образов в фильме опирается на авторскую память, на родство впечатлений собственной жизни и ткани картины, то он способен эмоционально воздействовать на зрителя. Если же режиссер следует только внешней литературной основе фильма (сценария или экранизируемого литературного произведения), пусть даже в высшей степени убедительно и добросовестно, то зритель остается холодным.
То есть, коли уж ты неспособен - объективно неспособен - воздействовать на зрителя его собственным опытом, как в литературе, в принципе не можешь добиться этого, то следует (речь идет о кино) искренно рассказать о своем" (С. 93 цитировавшегося выше издания).
Иначе говоря, кино - зеркало того, кто в него всматривается, и чтобы зритель увидел себя, сначала себя должен увидеть автор картины. Тарковский ничего не скрывал от зрителя, всматриваясь в зеркало кинематографа. Но ничего и не облегчал, не сводил к авантюре (напротив возвышал авантюру до философии или до высокой поэзии), не объяснял специально, не растолковывал: имеющий глаза да увидит, имеющий сердце - поймет. Другой вопрос - готовы ли были они, зрители 70-х, в кинематографическом зеркале лемовского романа увидеть Андрея Тарковского и самих себя, зрители, в числе которых был и автор книги, как известно, экранизацию не принявший. Но это - прошлое, не главное.
Главный вопрос, готовы ли мы к этому сегодня - даже сегодня, тем более сегодня - смотреть в зеркало Тарковского? Достанет ли нам ума, сострадания и мужества?
Рецензия: В. Распопин
