
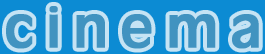
я ищу |
 |
 |
|
|
ЗЕРКАЛО
лирическая драма
Продолжительность: 103
СССР 1974
Режиссер: Андрей Тарковский
Продюсер:
Сценарий: Александр Мишарин, Андрей Тарковский
В ролях: Маргарита Терехова, Игнат Данильцев, Олег Янковский, Анатолий Солоницын, Алла Демидова, Николай Гринько, Юрий Назаров, Филипп Янковский, Иннокентий Смоктуновский (закадровый текст), Арсений Тарковский (чтение авторских стихотворений за кадром) и др.
Музыка: Иоганн Себастьян Бах, Джованни Баттиста Перголези, Генри Пёрселл, Эдуард Артемьев.
Оператор: Георгий Рерберг23.12.2003
Уставший жить, еще не старый человек перед уходом вспоминает...
То, КАК он вспоминает, для искусства не менее интересно, нежели то, ЧТО он вспоминает. О том, КАК вспоминает человек, закадровый главный герой, лирический герой текста, alter ego Андрея и отчасти, видимо, Арсения Тарковских, исполняемый только устами актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского и поэта Арсения Александровича Тарковского (ибо отец и сын - одно, в обоих живет один дух), тем не менее не столько рассказывает, сколько именно ПОКАЗЫВАЕТ "Зеркало".
Человек и время, подобно Троице (недаром рублевская икона обнаруживается едва ли не во всех лентах Тарковского), "неслиянны и нераздельны", а детство человека, даже если оно проходит в суровые времена, даже если отец покидает семью, но семья, русская семья, от века держащаяся на плечах женщины, все же сохраняется, несомненно - пора наивысшей гармонии, которая, быть может, и есть счастье.
Это потом человек повторяет (или не повторяет) своего отца, это потом он вступает в противоречия с временем, окружающими, наконец, с самим собой. Это потом он с довольством, омерзением или ужасом вглядывается в зеркало (неужели это я?.. и это моя жизнь?..) и, отчаявшись что-либо изменить в себе и в жизни, как он ее сложил, как она сложила его, отпускает навсегда, на волю, с отчаянием или с легким сердцем, свою птицу-душу.
Но прежде он вспоминает. Не по порядку - так пишутся лишь авантюрные романы - кажется, без всякой логической последовательности, но на самом деле и последовательно, и логично, человек вспоминает себя и время, и отца, и мать, и кувшин с пролитым молоком, и пугающе-таинственный, волнуемый порывами предгрозового ветра, лес, и "джокондову" улыбку первой любви - одноклассницы, пробудившей его чувственность холодной зимой в эвакуации, и сына-подростка, как в зеркале, отразившего его самого, и жену, с которой он расстался, повторяя отца...
Поток воспоминаний, картинок в зеркале "волшебного фонаря" памяти, но никак не калейдоскопа, неостановим, как поток сознания, покуда оно, сознание, не угаснет. Под тусклым солнцем бредущие по колено в воде, сгибаясь под непосильной тяжестью волочимых орудий, солдаты Великой Отечественной сменяются болезненно ярким зимним брейгелевским пейзажем "эвакуированного" детства; скрывающаяся в дымке почти совсем забытой, как бы недопроявленной, картинки фигура придшего в последний раз - проститься с детьми - отца уступает место новеллизированной, значит, почти придуманной истории (которую мемуарист не видел, а только слышал, причем, наверное, в различных вариациях), где бежит под дождем, задыхаясь, мать героя: ей привиделось, что она пропустила в гранках какую-то страшную опечатку; жена, как две капли воды похожая на мать, обсуждающая с ним, уже бывшим мужем, кандидатуру того, кто сменит (или может сменить) в ее жизни героя, уступает место матери, идущей с ним же - подростком - в соседнюю деревню, чтобы - семья голодает - продать небедствующей супруге врача драгоценные украшения; стихи в неискусном, но единственно возможном авторском чтении Арсения Тарковского прерываются громкими, отчаянными испанскими песнями: "Все жили вровень, скромно так - система коридорная"...
Картинки, эпизоды, главы. Годом раньше на экраны вышел "Амаркорд" Феллини - пронзительная, живая, печальная и веселая картина в эпизодах "о времени и о себе". Тарковский, вглядываясь в свой "Амаркорд" совсем по-другому, и не так по-итальянски жизнелюбиво, и куда пристальнее, и трагичнее, и духовнее, тем не менее отражает и зеркало великого итальянца - отчасти, на первый взгляд, в самом, вроде бы и не похожем на феллиниевское, построении фильма, в любовании лицами и вещами, в перебирании чего-то такого, что не нужно пытаться расшифровывать как сложные символы. Нет у Тарковского сложных символов - сложен он сам, человек и художник, ибо духовен, то есть вдвойне противоречив, поскольку каждый шаг по родившей его земле осуществляет как отрыв, как волевой акт борьбы с притяжением, и в то же время даже из космоса ("Солярис") стремится вернуться в родной дом. Если обычный человек в течение своей жизни пытается как-то примирить, гармонизировать разноустремленность своих половинок "от Бога" и "от черта", то художник вообще, а духовный художник тем более, не может не стремиться напрочь оторвать их друг от друга. Что невозможно. Возможно только убить одну из них. В этом - трагедия художника.
Так, стремясь ввысь, рожденный землей не может не оглядываться. Так, уходя по своей воле, ОТПУСКАЯ себя в последний полет преодоления тяготения, человек не может не вспоминать, не отражать - собственное и ставшее собственным. Вот - в сцене в типографии - мелькает зеркальный отблеск из фильма Бергмана "На пороге жизни": Алла Демидова, бежавшая по бесконечному, пустому, холодному производственному коридору вслед за матерью мемуариста, чтобы помочь подруге, успокоить, но и - совершенно по-русски - укорить, уколоть, "уесть", поняв вдруг, что зря бежала, что подруга не пустит ее в душу, что, наконец, все завершилось благополучно, сперва в задумчивости приостанавливается, а затем, уходя, неожиданно пару раз подпрыгивает на одной ножке - тридцатилетняя девчонка: а, все равно, все образуется, жизнь продолжается.
Она, эта жизнь, типографской работницы, все-таки закончится, спустя много лет - в упоминании матери мемуариста, сообщающей ему об этом по телефону, затем в разъяснении жены, куда более памятливой и "обычной", чем сам закадровый герой, умеющий, по-видимому, любить только ненавидя, ведь прежде чем отпустить на волю птицу души, он, годами не встречающийся с матерью, расставшийся с женой, осуждающий знакомых и незнакомых, он - уже отпустил, отстранил от себя все житейские связи. Разве что с памятью не может справиться.
А память - зеркало нашего "я", одновременно безжалостная и врачующая вещь, дарующая нам возможность увидеть себя без прикрас, или забыться в дымке прошлого. Зеркало - символ судьбы, гонящейся за нами, по слову Арсения Тарковского, "как сумасшедший, с бритвою в руке", но оно же - зеркало - символическая дверь в иные, лучшие миры самого себя.
Человек даже не двойствен - множествен. Человек пограничен самому себе, человечеству и мирозданию. Он сам - и человечество, и мироздание, он сам - "часть речи", как сказал бы Иосиф Бродский. Если сможет преодолеть немоту. А немота - как тьма, всегда, едва ли не в каждый миг существования окружающая нас со всех сторон. И только зеркало речи способно оттолкнуть тьму от человека, осветить, высветить его хотя бы перед самим собой. Об этом - "Зеркало", и начинающееся-то с документальной сцены обучаемого под гипнозом врача говорить юноши - тяжелого заики, и последовательно перемежающего личные мемуары лирического героя с документальными фактами заглавного героя-антигероя текста - века, в который нам выпало жить.
Речь... Но речь - не только произнесенное слово, речь - это и зримый образ, образы "нераздельных и неслиянных" отца и героя, героя в отрочестве и его сына-отрока, матери и жены, образ отца как бы наброском визуально данный Олегом Янковским и расшифрованный за кадром поэтической речью Арсения Тарковского, образ матери - молодой, проявленный Маргаритой Тереховой, и старой, закрепленный матерью режиссера.
Работа Тереховой вообще изумительна, даже в череде "зеркал" Тарковского, говорят, выжимавшего из актеров более того, на что они были способны. "Режиссер предложил актрисе трудную задачу: воплотить один и тот же женский тип в двух временах - довоенную и послевоенную эмансипированную женщину. И она с ней справилась. Удивительна в Маргарите Тереховой эта старомодная, изящная и выносливая женственность наших матерей; удивительна и сегодняшняя ее сиротливая бравада своею самостоятельностью, свобода, обернувшаяся одиночеством" (М. Туровская. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991. С. 107).
Одиночество. Без любви. После любви. Вместо любви. Или лучше сказать - вследствие невозможности любви. "Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?" (Ф. Тютчев). Один на один с зеркалом. А что там, в зазеркалье? Мир мертвых или то же одиночество?
Что ж, ничего не ждет нас на пути нашем, кроме одиночества и смерти? Кроме эгоистической любви-нелюбви? Быть может, так оно и было бы, если бы мы жили только в мире отеческом. Но зеркало правдиво: вот вымывается из него туманный облик отца, даже и на миг не проявляется облик уходящего мемуариста (впрочем, быть может, однажды он и мелькнул перед нами, в образе "просто прохожего" (Анатолий Солоницын), этакого неизвестно как дожившего от чеховских времен до конца 30-х гг. "века-волковдава" интеллигента, доктора, появившегося у плетня, на котором курила мать, из ниоткуда, да и ушедшего, выпросив папироску и обвалив плетень в результате неудачного заигрывания, тоже в никуда), зато не уходит из него лицо матери - молодой и старой - вечной. Ибо, в конечном-то счете, и гений, и негодяй, и эгоист, и альтруист, и художник и духоборец - все мы выходим из мира матери. Это он - наше главное зеркало, это он - и совесть, и память наша, и вечный укор.
"Так, пройдя через все перипетии памяти: памяти-совести и памяти-вины, - режиссер совместил в пространстве одного финального кадра два среза времени, а в монтажном стыке - даже три. И молодая женщина, которая еще только ждет первого ребенка, видит поле и дорогу, вьющуюся вдаль, и себя - уже старую, ведущую за руку тех прежних, стриженных под ноль ребятишек в неуклюжих рубашонках предвоенной поры; и себя же молодую, но уже оставленную на другом конце этого жизненного поля (жизнь прожить - не поле перейти), глядящую в свое еще не свершившееся будущее...
Так идеальным образом материнской любви, неизменной во времени, в странном, совмещающем в своем пространстве два разных времени кадре закончит режиссер свое путешествие по памятным перекресткам наших дней. Сложный фильм человечен и даже прост по своим мотивам. История, искусство, родина, дом..." (Цит. изд. С. 112).
И - добавлю - речь, благодаря которой мы вочеловечиваемся и вопреки которой все же не бываем счастливы, ведь счастье тела и души противоречат цели духа, Органом и оргАном которого речь и является. Фильм Андрея Тарковского еще, а может быть, и прежде всего, именно об этом - о гамлетовской гибели от раздрания вещества и существа, ведь "век вывихнулся, и страшней всего, что я рожден восстановить его". Восстанавливая вывихнутый век, художник обрекает себя на неизбежную физическую гибель; утрачивая тело и губя дущу, он освобождает дух - и становится "частью речи".
"Зеркало" в своем роде единственный фильм. Он действительно отражает все и вся, он сам - зеркало времени и судьбы, просто человека и величайшего в столетней истории кинематографа духовного художника. Он не сложен и не прост, он слишком независим от каких-либо и чьих угодно критических суждений, будь то суждения современного картине советского начальства от искусства, или недоумения привыкших видеть и мыслить, чувствовать и говорить иначе, линейнее, примитивнее коллег режиссера. Он - "вещь в себе", открытая тем не менее каждому умеющему и - главное - желающему видеть. Он сделан как бы по законам стихотворения, или, скорее, цикла стихотворений, а еще точнее - венка сонетов, редчайшей и труднейшей формы, не слишком свойственной русской поэзии. Он филигранен, отточен в каждом символе и жесте так, что его, действительно, больно смотреть. И как всякое зеркало, как всякий драгоценный камень, как всякая "вещь в себе", как всякая классика, он гораздо больше скрывает, чем показывает. По крайней мере - до поры. Ибо - и я уже не раз говорил это - не мы читаем классику, она - нас.
Рецензия: В. Распопин
