
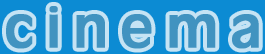
я ищу |
 |
 |
|
|
АНДЕГРАУНД (ПОД ЗЕМЛЕЙ)
трагифарс
Продолжительность: 163
Евросоюз 1995
Режиссер: Эмир Кустурица
Продюсер: Пьер Шпенглер, Карл Баумгартнер и др
Сценарий: Душан Ковачевич, Эмир Кустурица
В ролях: Мики Манойлович, Мирьяна Йокович, Лазар Ристовский, Славка Стилои, Бата Стойкович, Бора Тодорович и др.
Музыка: Горан Брегович
Оператор: Вилко Филач05.11.2002
В классики редко записывают при жизни, а художников молодых, то есть не достигших возраста, когда приметы биологического одряхления откровенно свидетельствуют о необходимости для критиков или власть предержащих поторопиться, - почти никогда. Среди нынешних сорока-пятидесятилетних классиков в мировом кино, пожалуй, только трое: испанец Альмодовар, финн Каурисмяки и серб Кустурица. Последний взошел на кинематографический Олимп едва ли не дебютной своей лентой "Помнишь ли Долли Белл?". Было ему тогда 27 лет. В тридцать, получив "Золотую пальмовую ветвь" за следующую картину "Отец в командировке", в причастности к "бессмертным" Кустурица утверждается окончательно.
"В чем же дело? - размышляет над феноменом югославского режиссера киновед Сергей Лаврентьев (Первый век кино. М.: Локид, 1996. С. 264 - 265), - Чем покорил мир этот уроженец столь значимого для нашего века города Сараева?
Тем, очевидно, что в эпоху бесчисленных стенаний по поводу кризиса мирового кино он заставил поверить в неуемную жизненную силу этого искусства... Фильм ("Помнишь ли Долли Белл?" - В.Р.) возвращал экрану почти утраченную полифонию жизни... Мощная жизненная сила этой ленты заставляла вспомнить чехословацкое кино шестидесятых годов, художественные и социальные поиски которого юный постановщик как бы сконцентрировал. И хотя свое кинообразование Кустурица получал в Праге в начале 70-х, когда знаменитое киночудо было уже уничтожено, балканский бунтарь сделал все, чтобы чехословацкая "Новая волна" не осталась лишь ностальгическим воспоминанием. И когда в 1985 году главную награду Канна ему вручал Милош Форман, во всем мире это было воспринято как признание неразрывной связи творчества Кустурицы с выдающимися режиссерами "пражской весны"".
Едва ли не каждый следующий фильм молодого режиссера становился событием мирового кино и увенчивался высшими наградами престижных МКФ.
Сказал ли Кустурица что-то новое, чего не было прежде? Вероятно, да, но сформулировать это в небольшой рецензии невозможно. Во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью: публику обыкновенно поражает не только и - главное - не столько, ЧТО именно говорит художник, сколько то, КАК он говорит. КАК (при условии, конечно, что есть и ЧТО), то есть стиль, то есть личность говорящего, то есть, в конечном счете, его самого, а следовательно, его труда содержание - это и есть и наш успех в искусстве, и наша ответственность перед делом, которому мы служим, и перед миром, которому мы предъявляем результаты своего труда.
Кустурице, художнику, родившемуся в 1954-м в "райском уголке" социалистического блока Европы, было и, будем надеяться, еще имеется, что предъявить. Он - редкое явление в искусстве - не маргинал, не постмодернист (хотя и непременно отмечает в своих лентах жизненно важные для любого мастера векторы взаимосвязей с наиболее близкими ему предшественниками), не интроверт. Он жизнелюбив, как цыган, о которых год за годом снимает все свои картины, он в высшей степени культурен, поскольку фильмы его полны отсылок не только к мировому кино, истории и политике, но и к литературе, музыке, живописи, он, наконец, контактен, ведь картины его - художественные миры - густо населены народом самым разнообразным. А если уж говорить об учителях и соратниках в предшествующих поколениях, причем говорить по самому высокому уровню, то ближе всего Кустурице скорее не Форман, а Феллини. Что, кстати сказать, новый классик все плотью вершинного своего фильма "Андеграунд" и подчеркивает.
"Под землей" - формально полувековая история Югославии, ее бесшабашных цыганистых мужчин и "романистых" женщин, людей свободных, крикливых, непоседливых, людей совершенно земных, простых и славных, попавших в мясорубку перманентной партизанской войны с гитлеровскими, советскими и собственными переделывателями мира под революционный аршин.
Два кума (оговорюсь сразу: рассказываю содержание картины лишь по одной, основной ее линии, ибо в "Андеграунде", как в романах Толстого, построен целый мир, и проследить частные судьбы его обитателей в пространстве одной рецензии нельзя), влюбленных в светловолосую артистку провинциального театра, кажется, беспочвенно мечтающую сделаться примой МХАТа, живут-не тужат в предвоенной Югославии, ругаясь с женами, меняя подруг, не без усеха приторговывая чем ни попадя. Один из них - типичный цыганский король, другой - поумнее. Когда в город входят гитлеровцы, актриса, продолжая оставаться любовницей "барона" и кокетничать с его кумом, становится еще и любовницей немецкого офицера. Последнее обстоятельство заваривает сюжетную кашу и приводит в итоге к тому, что едва ли не полгорода - "семья" барона и он сам - вынуждено укрыться под землей, где они с 1944-го и будут ("Не знал он, бедный, что закончилась война!") жить двадцать лет, изготовляя винтовки для борьбы товарища Тито с немецко-фашистскими захватчиками.
Держит же их в этом жестоком неведении кум барона, тот, что посмекалистее. Он не только увел у него актрису, но и сделался ближайшим другом "дорогого товарища Тито", и, значит, занимая высокую государственную должность, превратился в типичного партийного функционера ("зачем им думать, у них Устав есть!"). Ныне он - поэт в прошлом, мемуарист, рассказывающий подрастающему поколению сказку о куме - красном партизане, отдавшем жизнь за дело революции и освобождения югославского народа заодно и от гитлеровских полчищ, и от местных кровососов крови народной. Богат, словом, уважаем, ведет двойную жизнь. Одним исторические сказки рассказывает, других - подпольщиков - ужастиками стращает.
Ничто, однако, не вечно. Тито умирает, подземка обоим кумовьям (каждому по-своему) осточертевает. Легендарный партизан однажды выбирается на волю и... (как бы повели себя вы, просидев двадцать лет в подполе и покинув его прямиком из 44-го в 64-й?) совершает вооруженный налет на группу киношников, снимающих историческую сказку о нем самом по мемуарам благополучного подлеца-кума.
Мир подполья рушится и в прямом смысле взрывается тем, кто его создал и два десятилетия (эпоха зажатых ртов, завязанных глаз и заткнутых ушей!) держал под замком. Все его обитатели - виновные и невинные - погибают. Ан нет, не все! Главные герои, Джеймсы Бондовые, как бессмертное дело Ленина, лишь меняют маски. Мы вновь встречаемся с ними, вечными партизанами, когда кусок балканской плоти окончательно добивается потомками тех, кто когда-то провел между Югославией и культурной Европой границу-трещину. Один из отрядов вольных партизан, шмаляющих во все еще живое, возглавляет кум-барон. В расположение этого-то отряда прибывает в инвалидной коляске кум-умник, чистый "крестный отец" партийной мафии, ныне - уважаемый французский бизнесмен, торговец оружием. Актриса, начавшая спиваться еще в 60-е от безделья, неосуществленных творческих амбиций и сексуального голодания, связанного, разумеется, с партийной импотентностью мужа, сопровождает своего благоверного: сколько бы ни рыпалась - от судьбы не уйдешь. По приказу кума-командира, даже и не взглянувшего, что там за европейские спекулянты приехали на его законный Остров мертвых, приказывает их расстрелять. Узнав, кончает самоубийством, на которое не хватило ранее мужества и остатков человеческой чистоты ни у его кума, ни у кумы.
А потом, потом, в эпилоге, все мертвые - виновные и безвинные - встречаются за праздничным столом, прощают друг другу и целуются под дикую горькую цыганскую скрипку, как бы повторяющую мелодии Нино Рота из "8 1/2" и "Амаркорда" или, наоборот, подавляющую их. И корабль - Остров мертвых, Ноев ковчег конца тысячелетия, конца времен - плывет, удаляясь, уменьшаясь, теряясь в синей глади Средиземноморья. "Все прошло, все умчалося... Ничего не осталося..."
Остался миф о героях ("Богатыри - не вы"), порожденных мифическим в самой монструозной реальности своей временем - нашим, слава Богу кончившимся, временем, остался эпос о мире, которого больше нет, о балканской (только ли балканской?) Атлантиде, которая - жертва большевистских экспериментов над живой жизнью и одновременно жертва нашей, общечеловеческой и полувосточной недоношенной зрелости, вообразившей себя мудростью - которая, говорю, под смертно-веселую цыганскую скрипку отделила себя однажды от культурного христианского материка, да так отделила, что граница со временем превратилась в трещину, а еще потом население этого куска плоти земной, обессмыслившись и одичав в отстутствие общечеловеческих ориентиров, за которыми трудно и почти невозможно уж было перепрыгивать через все увеличивающийся раскол-провал, по-библейски сделалось "каждой твари по паре" - и окончательно обратилось в атлантов, логично и отдрейфовавших на своем куске земли в синь морскую, пируя "во время чумы", пляша и рыдая, едва ль не бессмысленно глядя на удаляющийся континент. Ковчег, скажете? "Плывем, куда ж нам плыть?" Ковчег не во спасение, Остров мертвых, "Была страна..."
Больно и страшно только что два часа подряд то и дело всхохатывавшему зрителю, больно и страшно художнику, родившемуся сорок лет назад именно на этом куске земли, тогда уже отделенном от континента трещиной. Но ведь страшно и больно и тем, кто остался на континенте. Не страшно ли было, например, тому же Феллини, жизнелюбцу "во время чумы", чей "Амаркорд" на всем протяжении трехчасового "Андеграунда" Кустурица цитирует явно, а "8 1/2" и "Корабль плывет" - вписывает прикровенно, как бы между строк?
Великий фильм, фильм - приговор полувекового нашего сна во сне, и как минимум полуторастолетнего андеграунда (в смысле - "записок из подполья"), приговор, быть может, человечеству, но и оправдание человеку - существу не столько гаденькому, сколько слабому, наделенному от недоступного его постижению Бога не столько свободой воли, сколько непониманием, зачем она, собственно, ему нужна, свобода воли... Существу, невольно к несчастью стремящемуся, и значит - несчастному и потому достойному сочувствия.
Рецензия: В. Распопин
